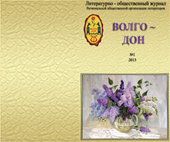Калмыки считали непростительным грехом воровство в
собственном кочевье. В то же время кража у казаков - это предмет хвастовства
перед товарищами. Один из исследователей народного быта отмечал: «Казаки и
калмыки до самого начала настоящего столетия, несмотря на все старания русского
правительства сделать их мирными гражданами, не переставали вести открытую
вражду, выражавшуюся во взаимных набегах друг на друга с целью грабежа, преимущественно лошадей,
рогатого скота и овец. Войсковое начальство зачастую и не знало о
каком-нибудь набеге. Ни та, ни другая сторона не жаловались, а выжидала более
удобного момента, когда можно было бы заплатить своим неприятелям той же
монетой. Благодаря этому, казаки и калмыки всегда тщательно смотрели за своим
скотом и неусыпно стерегли его от набегов. Чуть только послышится в степи топот
лошадиных копыт, как весь калмыцкий улус или казачья станица «становится на
ноги» и спешит отразить нападение».
Однако
связывающего элемента было намного больше, чем противоречий. Ещё в 1682 году
войсковой атаман Фрол Минаев писал в Москву, «что с калмыками донские казаки
живут нынче в миру и задоров меж них никаких нет, многие калмыки пригнали на
продажу быков и овец и на Дону меняли запасы на вино».[1] Общие
интересы в торговле, в организации ветеринарного обслуживания поголовья, в
налаживании быта, в строительстве жилья и хозяйственных построек вышли на первый
план. Казаки договаривались с калмыками, отгоняли к ним молодняк, а к осени или
к другому году подросшее поголовье забирали и сбывали на ярмарках,
ремонтировали им свой домашний скот, самых лучших скакунов калмыцкой породы
предназначали молодёжи на призыв.
К тому же обе
стороны стали жёстко относиться к нарушителям порядка. Отмечается случай, когда
станичный сбор станицы Нижне-Чирской за кражу скота у калмыков своим приговором
отправил казаков в Сибирь. Окружной начальник Второго Донского округа в 1983
году рассмотрел дело о лишении свободы калмыков. Выяснилось, что атаманом
станицы Атаманской А.И. Фомичёвым не совсем праведно были посажены на
трёхдневный арест калмыки Акуда Умадыков и Пинда Бухурдинов. Они с кошары
казака Якова Карасёва, что на балке Мокрая Савдя, увели трёх быков и одну
корову, а потом были задержаны. Ретивый атаман, не имея арестантского помещения
при управе станицы, незаконно лишил калмыков свободы. За калмыков вступился
П.О. Дудкин, заседатель калмыцкого Правления заведовавший дистанциею Калмыцкого
кочевья в слободе Ильинке на Дону (так полностью именовалась должность). За
проступок усердному атаману пенять не стали, казаки и калмыки разошлись на 35
рублях возмещения ущерба. Окружной атаман постановил дело оставить без
последствий, Войсковая канцелярия утвердила это решение. Конфликт был улажен.
Казаки поняли,
что «учение ламаитов чуждо проповеди вражды и ненависти к последователям других
религий, а калмыки сами по себе народ мягкий, чуждый фанатизма и нетерпимости».[2] Это
позволило калмыкам достаточно быстро, хотя и не без конфликтов и столкновений,
вписаться в казачье сообщество. Поспособствовала и буддийская этика, которая
призывала к смирению, к непротивлению злу, полагая, что зло в душе, обида умножают
зло в мире. Недружелюбие у калмыков было
исключено, у них сложилась мудрая пословица: «Не рассмотрев хорошенько, нельзя
говорить о каком-либо человеке. Обернувшись себя самого трижды и присмотревшись
в себя самого, надо потом говорить о другом человеке».
Калмыков и
донских казаков объединяло врождённое чувство гордости, они ценили достойное
мнение о себе, о своей семье. Современник отмечал: «Калмыки никогда не
нищенствуют, даже находясь в крайней бедности».[3]
Повседневные
контакты, заинтересованность в эффективном ведении хозяйства, развитие бытовых,
межсемейных связей постепенно отстранили бывшие противостояния. Примером может
служить усыновление атаманом хутора Иловлиновского станицы Атаманской Ивана
Тимофеевича Колесова. Когда младенец-калмык из соседнего хутора остался без
родителей, атаман взял его в свою семью, воспитал, дал имя - Николай Колесов.[4]
Общение с
русским населением оказало воздействие на донских калмыков. Специальными
антропологическими обследованиями было обнаружено некоторое ослабление
монголоидных особенностей, у них наблюдалась
европеоидная примесь: волосы извилистее и мягче, борода развита сильнее,
скулы меньше. В казачество тоже влилась немалая доля калмыцкой крови. Восток
проглядывал в крутых скулах и суженных глазах русских прабабушек.
Русские и калмыки осознали, что они связаны
одной судьбой, живут под одним небом.
Начиная с середины века, калмыцкие кочевья
были сокращены, южная их часть отведена для частных конезаводов, среди которых
было много калмыков, северная отдана калмыцким сотням. Смена с кочевого
экстенсивного скотоводства на стационарное повлекла за собой отказ от
мобильного поселения и жилища - хотона и юрты. Хотоны, сотни
и улусы становились хуторами и
станицами.
Зажиточная
верхушка Астраханских и других калмыков являлась крупным собственником скота.
Владея большими стадами, они фактически были владельцами земли и воды,
пастбищных и сенокосных угодий.[5]
Совсем другая
обстановка была на Дону. Здесь большинство калмыков-казаков получило гарантии
независимого ведения личного хозяйства. Сначала выделили определённый район кочевья,
затем предприняли меры к закреплению на земле, прежде всего посредством
выделения казачьих паёв. Они были большими, чем в любой станице Области войска
Донского (кроме Атаманской) - в
разное время от 50 до 100 десятин,
из них по 15 пахотной.[6] После
принятия «Положения по управлению калмыцким народом» норма душевого надела снизилась до 43 десятин. Для
постройки домов и устройства оседлости выдавались государственные ссуды,
денежная помощь - 20 рублей серебром. Так калмыки подталкивались к переходу на
земледелие, либо к смешанному типу хозяйства. Процесс оседлости набирал темпы.
Медленно, но неуклонно калмыки прикреплялись к своим казачьим паям, этот
процесс был экономически выгоден.
Разводили калмыцкую
степную лошадь, она не страшилась никаких метелей, никаких лишений. На основе
этой породы в калмыцких зимовниках вырастили лошадь породистее и крупнее. В
итоге получили калмыцкую породу лошадей, которые отличались небольшим ростом,
выносливостью, неутомимостью, нетребовательностью к уходу и кормлению, она была
способна к любой работе и к службе в кавалерийских полках. Эти качества
привлекали ремонтёров - заготовителей лошадей для армии, калмыкам было выгодно
заниматься коневодством. Лошади ценились настолько, что хозяева иногда
продавали поголовье евреям-барышникам, которые перегоняли табуны через границу
и с большой выгодой сбывали их в Австрию.
В
летнее время, по мере вытаптывания подножного корма, кочевали с места на место.
Зимой чаще всего табуны пригоняли к месту
зимовки сотни или
хотона. Времянки состояли из
землянок, иногда - деревянных домов с базами. В 1884 году современник писал:
«Лошади круглый год ходят в степи на подножном корму. Но в глубоком снеге, во
время гололедицы, в жестокую вьюгу они оставляются при жилье и кормятся сеном.
В зимовниках есть базы, в которых лошади остаются под открытым небом, но
защищены, по крайней мере, от пронзительного ветра».[7]
Коннозаводство
донских калмыков прошло путь от степного
(косячного) способа разведения лошадей до планомерной племенной работы.[8]
Конезаводчики ветучастка хутора Дубовского и ветучастка станицы Атаманской -
калмыки Бугульдушев, Калтыканов, Шуранов, Цуглинов, Муманжинов, М. Батыров,
Сангинов, Тюльтинов, Д. Ремелев, А. Шавелькин, Б. Шавелькин, Абушинов,
Бакбушев, Б. Сельдинов добивались хороших результатов. Обычно косяки составляли
по 5-15 жеребцов, 50-150 конематок. У Саджи Бакбушева было 9 жеребцов и 121
матка. Богатые калмыцкие конезаводчики часто избирались атаманами.
Прибыльным
делом стало скотоводство. В 1840 году у калмыков-казаков было 30 600 голов
крупного рогатого скота, а к 1870 году уже 73 000. В том числе в Эркетинской
сотне насчитывалось 3 128 голов, в Чунусовской - 4 149. Для улучшения
породности крупного рогатого скота приобретали племенных животных. Калмыцкие
быки покупались по 120-150 рублей серебром за пару, неплохие по тем временам
деньги.
В овцеводстве
сначала разводилась калмыцкая курдючная овца, затем её заменила волошская
(порода из Венгрии). Завоз новых пород был делом государственным. Экспедиция
государственного хозяйства профинансировала проект закупки в Испании лучших
испанских (шпанских) мериносов. Самые активные стали заниматься тонкорунным
овцеводством, эти хозяева назывались «шпанководы». В Эркетиновке было 4 400
голов овец, а в Чунусах - 4 149, всего у донских калмыков стадо овец
насчитывало 122 тысячи голов. Чабаны большей частью были из русских и
украинских иногородних.
За счёт
средств казны закупались чистокровные бугаи калмыцкой породы, в дальнейшем они
использовались для улучшения породности скота.
Верблюды имели
распространение при кочевом образе жизни.
В семидесятые
годы появились мельницы, всего в калмыцких станицах было три водяных и восемь
ветряных мельниц (в том числе - ветряная мельница в хуторе Чунусовском), одна
кузница, четыре лавки.
Первые очаги
земледелия у донских калмыков появились в 30-е годы XIX века. Сначала
хлебопашество играло подсобную роль, сопутствуя главному занятию -
скотоводству. Широкое распространение получило сенокошение, заготовка кормов на
зиму удерживала многие калмыцкие семьи от кочевой жизни. Вторая половина XIX
века явилась временем перехода к земледельческой деятельности. Если в
животноводстве калмыцкие станицы добились успехов, то в земледелии дело
продвигалось медленно. Специалисты, проводившие экономическое обследование,
отмечали: «Калмыцкое население под влиянием своего духовенства, местной
станичной и вообще окружной администрации стало вполне сознавать несовершенство
своего хозяйства, но не желает изменить способ ведения его в лучшую сторону,
приступает к этому только потому, что не знает пока иного способа ведения
хозяйства». Калмыки сеяли преимущественно пшеницу и рожь. Процесс товарного
земледелия начался в первом десятилетии XX века.
[1] Шовунов К.П.
Калмыки в составе российского казачества
(вторая
половина XVIII-XIX вв.) Элиста, 1992 г. С.107.
[2] Номикосов С.Ф. Статистическое
описание области Войска
Донского. Новочеркасск, 1884. С. 281.
[3] Богачёв В. Очерки географии Всевеликого Войска
Донского. Новочеркасск, 1919 г. С.308.
[4] Колесов Г.С. Белый снег. Ростов-на-Дону. 2002 г.
С.54.
[5] Очиров А.В. Социально-экономическое развитие Калмыкии
во второй половине XIX -
начале XX вв. Астрахань, 2008 г. С.43.
[6] Десятина -
единица площади = 1,0925 гектара.
[7] Статистическое описание Области войска Донского.
Новочеркасск, 1884 г. Сост. С.Ф. Номикосов. С.447.